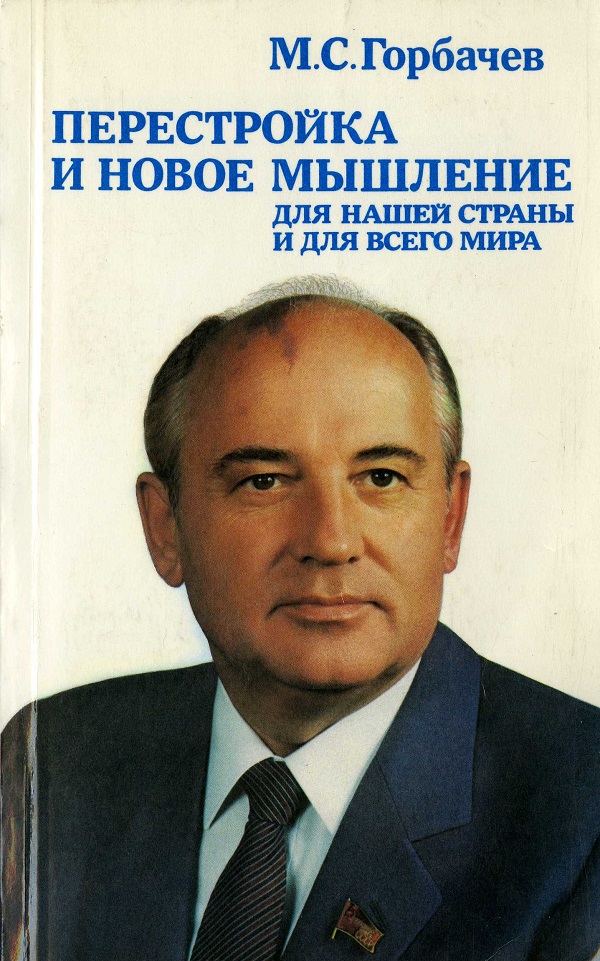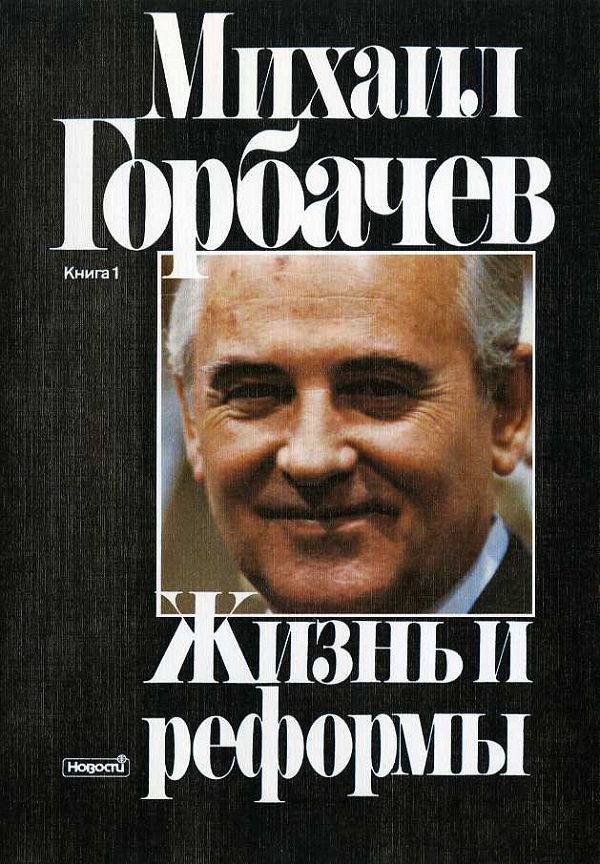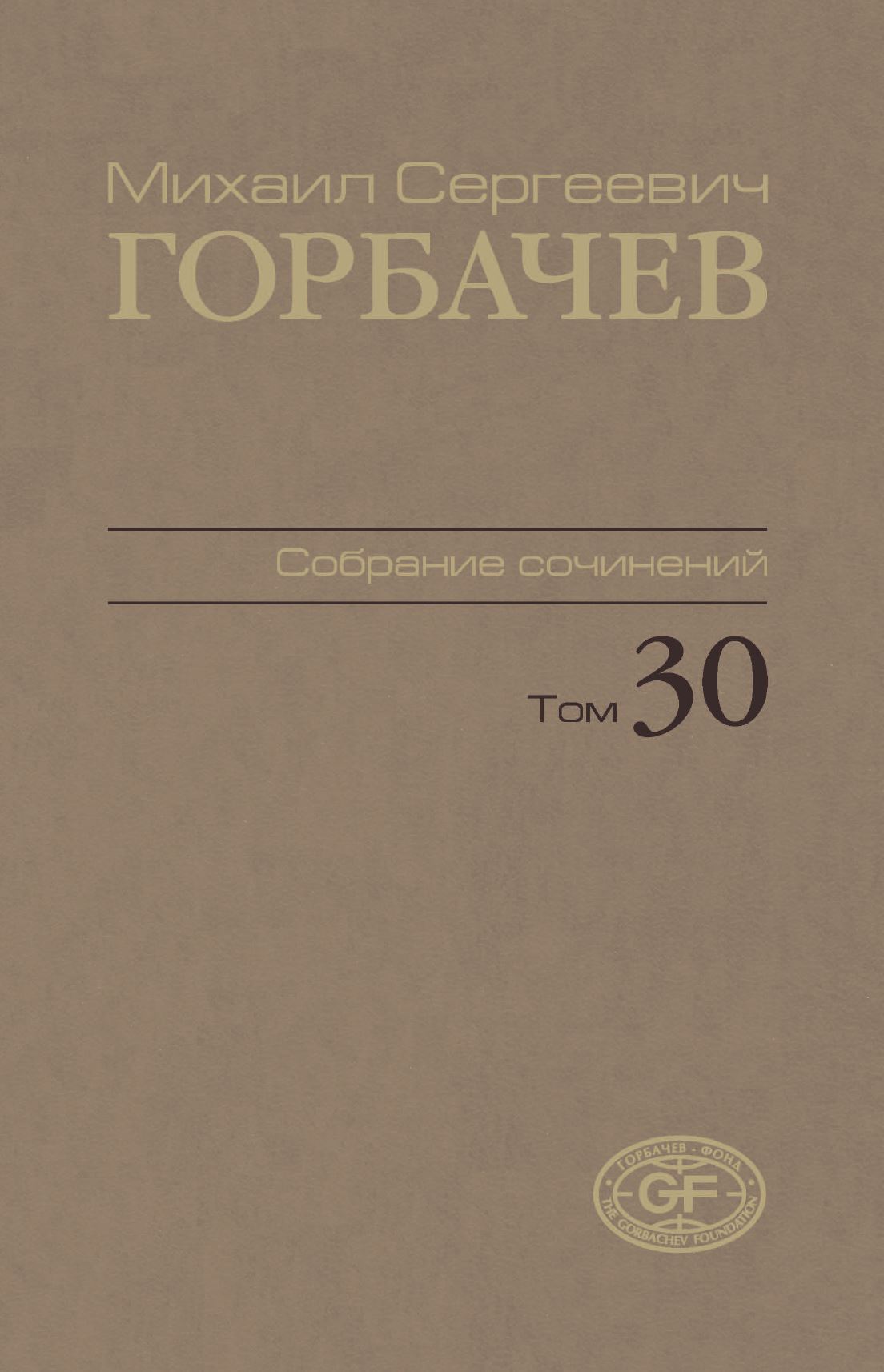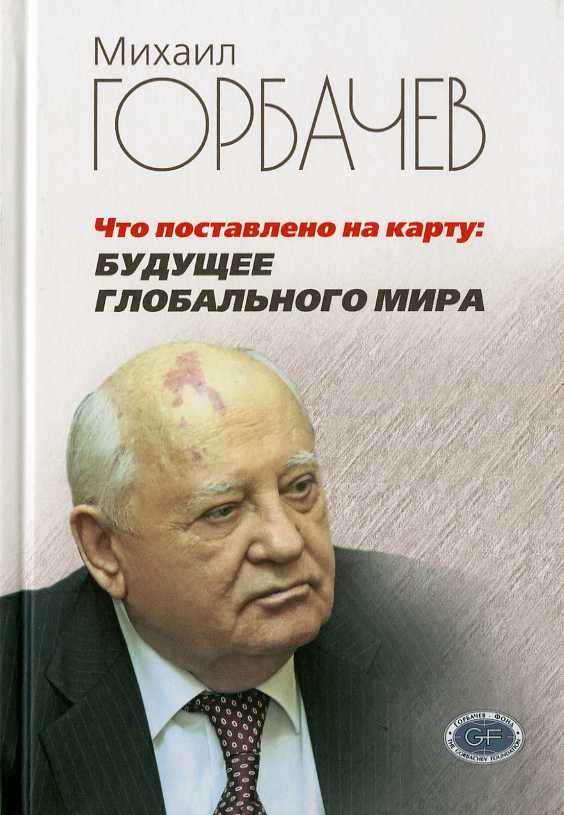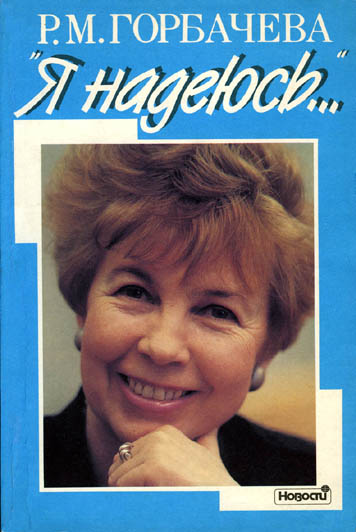9 февраля 2025
Сергей Михайлович Рогов (1948 – 2025)Научный руководитель Института США и Канады РАН, академик Сергей Михайлович Рогов был большим другом Горбачев-Фонда, не раз принимал участие в наших конференциях и других мероприятиях. Мы публикуем два ярких выступления С.М. Рогова – на конференции «От Фултона до Мальты» (2006 г.) и на презентации книги «Отвечая на вызов времени» (2010 г.)
Конец холодной войны: причины и последствия
В советско-американских отношениях, в отношениях между нашей страной и Западом в целом в период холодной войны чрезвычайно большую, уникальную роль играл идеологический фактор. Это касается не только Советского Союза. Давайте не будем забывать о том, что Америка – тоже очень идеологизированная страна. Американское мессианство, сияющий град на холме – это была основа американской политики и в период холодной войны, и сегодня. И сегодня она привела Соединенные Штаты в Ирак.
Вторая, на мой взгляд, особо отличительная черта холодной войны – это невиданная для мирного времени гонка вооружений, когда на протяжении нескольких десятилетий и мы, и они фактически держали в отмобилизованном состоянии свои вооруженные силы, свою экономику. Такого никогда не было в мировой истории.
Собственно говоря, советско-американские переговоры до Горбачева по существу были связаны с контролем над вооружением, с правилами соперничества, как не перейти грань ядерной войны. Горбачев первый поставил вопрос о том, что холодную войну надо заканчивать. Контроль над вооружениями никогда на решение этой задачи не был нацелен. Решающей сферой в этой конфронтации была социально-экономическая. Именно здесь был решен исход соперничества двух систем.
Я хотел бы сказать несколько слов о том, о чем, на мой взгляд, мы часто забываем: как Запад отреагировал на советcкий вызов? Запад радикально изменился за период холодной войны после 1917 года и в силу внутренних причин, и в силу того вызова, который ему бросила большевистская революция. Хочу подтвердить это несколькими цифрами. Уже в период между двумя мировыми войнами фактически во всех ведущих западных государствах было введено всеобщее избирательное право. Во Франции, Италии, правда, женщинам право голоса дали только в 1945 и 1948 году. Мы уж забываем сейчас, что западная демократия на самом деле – это очень «свежая» вещь. Но именно после 1945 года, именно в разгар холодной войны на Западе было создано зрелое социальное государство. Тогда стало общепризнанно, что основная задача государства – выполнение современных функций в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, т.е. создание общественных благ, а не традиционные чисто военные, полицейские функции.
Если в 1950 году западные государства тратили на социальные цели в среднем примерно 10 процентов ВВП и примерно столько же на военные цели, (и соотношение было 10:10), то в 1990 году на военные цели тратилось 5 процентов ВВП, на социальные – 25 процентов. То есть соотношение 5:1 в пользу современных функций.
Теперь посмотрим на Советский Союз. В 1950 году это соотношение составляло 25 процентов ВВП на социальные цели и 15 – на военные. Когда говорят о «второй волне» тоски по Сталину, может быть, это одна из причин, почему в сознании, в исторической памяти остались не только репрессии и преступления, но развитие Советского Союза высокими темпами в 50-е и особенно в 60-е годы. А в 1985 году военные расходы СССР – 18 процентов, социальные – 22 процента ВВП. То есть, соотношение почти 1:1. Когда Горбачев стал Генеральным секретарем КПСС, это соотношение было хуже, чем в начале холодной войны.
На Западе в период холодной войны сформировалась, как я уже сказал, модель социального государства в трех ее основных разновидностях. Это –скандинавская, модель, где социальные расходы достигают 30 процентов ВВП. Это – западноевропейская, как в Германии, где 25 процентов ВВП – социальные расходы. И американская, где, казалось бы, социальные расходы всего лишь 15-20 процентов ВВП, но американская экономическая система, государственная налоговая политика уникальны, поскольку значительная часть общественных благ создается частным сектором благодаря налоговым и кредитным льготам. И если суммировать социальные блага, которые создает государство, 15 процентов и частный сектор – 8 (в Германии, например, частный сектор создает только два процента социальный благ), то получается примерно то же самое, что в Западной Европе.
Стратегическая концепция ведения холодной войны, которую взяли на вооружение Соединенные Штаты, стратегия сдерживания (не путать с ядерным устрашением) была направлена именно на экономическое истощение Советского Союза. И это была длинная война, о которой сегодня говорят в Вашингтоне в отношении терроризма, но впервые, Гейдис писал о советско-американской конфронтации, как o long war – длинная война. И, в конечном счете, в пользу США и в пользу Запада сыграло то обстоятельство, что вместе с США были все развитые страны – и Европа, и Япония, а Советский Союз остался в одиночестве.
На ХХIII съезде КПСС Брежнев объявил, что советская система в состоянии одновременно и надежно обеспечивать безопасность СССР и продвигать благосостояние советского народа. Говоря другими словами, советская система позволяет дать и пушки, и масло. И нефтедоллары такую возможность, казалось бы, давали. Вообще тот колоссальный скачок, который мы совершили в гонке вооружений в конце 60-х-70-х годов, догоняя Штаты, собственно говоря, и привел к подписанию соглашений о контроле, но результатом стала стагнация, и в конечном счете исторически перестройка не смогла, не успела, (просто, на мой взгляд, не хватило времени) чтобы эту трагическую ошибку исправить.
Если говорить о последствиях холодной войны, я считаю, что она закончилась Беловежской пущей, когда на блюдечке с голубой каемочкой администрации США преподнесли то, о чем ни Буш, ни ЦРУ просто мечтать не могли. Советский Союз исчез, и вопрос о победителе в холодной войне и о побежденных в ней решился автоматически. Подарок Соединенным Штатам был сделан, и мы увидели, что уже 15 лет Соединенные Штаты пытаются консолидировать однополярный мир. Им удалось добиться уникальной вещи.
Обычно после такого геополитического конфликта коалиции победителей разваливаются, начинают соперничать. Еще в 1992 году в документах администрации Буша-старшего как раз и говорилось впервые, что США не допустят появления равного по силам противника, включая Японию и Германию (был такой документ Вулфовица). Эту задачу Соединенным Штатам удалось решить.
Можно говорить еще и о колоссальных ресурсах американской экономики, о том, что Соединенные Штаты (этого никогда в мировой истории не было) сегодня тратят 50 процентов всех мировых военных расходов, а сфере военных НИОКР – около 70 процентов. То есть Америка ведет гонку вооружений сама с собой, поскольку равного по силам соперника нет. Благодаря особому положению доллара в мировой финансовой системе – сейчас об этом говорит и Международный валютный фонд, да и Европейский союз – Америка на протяжении всех этих 15 лет потребляет «лишних» полтора процента мирового ВВП, расплачиваясь за это зелеными бумажками. То есть сегодня существует положительный платежный баланс и у Европейского союза, и у Китая, Японии, даже у России. Единственная страна мира, у которой отрицательный платежный баланс, – это Соединенные Штаты.
Что же происходило у нас? На мой взгляд, в 90-е годы в России произошел демонтаж социального государства. Этот процесс особенно ускорился после дефолта 1998 года. В 1998 году мы еще тратили почти 18 процентов ВВП через государственный бюджет на социальные расходы. В 2000 году – 10 процентов ВВП, сегодня – 11 процентов. Если мы посмотрим бюджет 2006 года, то возникает фантастическая картина. В федеральном бюджете расходы на силовые ведомства – 8 процентов ВВП, социальные (несмотря на национальные проекты) – 4 процента ВВП. То есть традиционные функции – 8, современные – 4, как «при царе Горохе». Если возьмем консолидированный бюджет, то социальные расходы – 10 процентов, силовые – 9. Тут 1:1. Но на Западе, в Европе, социальные расходы опережают традиционные в соотношении 7:1, 8:1, даже в Америке – 4:1. То есть мы сегодня консолидируем государство времен Петра Первого.
В заключение – о США. Сегодня они, на мой взгляд, оказались в очень сложных условиях. 20 лет назад Пол Кеннеди предсказывал, что произойдет перенапряжение сил Соединенных Штатов. Этого не произошло, распался Советский Союз. Но сегодня Америка сталкивается с экономической ситуацией, которая не может продолжаться вечно. Дефицит государственного бюджета – четыре процента ВВП. Дефицит платежного баланса – 800 миллиардов долларов в прошлом году. Это семь с лишним процентов ВВП. То есть мир сегодня как бы финансирует политику Буша. И как долго это будет продолжаться – трудно делать предсказания. Буш-младший, как и Рейган, сокращал налоги, увеличил военные расходы, но увеличил и социальные расходы. При Буше-младшем расходы на образование, лекарства были более высокими, чем при Клинтоне. Американская экономика тоже не в состоянии выдерживать «и пушки, и масло», поэтому возникло колоссальное перенапряжение сил Америки.
Конечно, многое будет зависеть от исхода войны в Ираке, где возникла перспектива сокрушительного поражения США. Смогут ли Соединенные Штаты сделать для себя соответствующий вывод и сможет ли сделать его весь мир? После окончания Холодной войны не произошло создания нового миропорядка, основанного на международном праве, на общечеловеческих ценностях, о котором мы говорили в конце 80-х годов. США оказались не в состоянии исполнять роль единоличного полицейского. Что будет дальше? Хаос?
Оглядываясь на историю холодной войны, надо думать о полученных нами уроках и все-таки попытаться думать о таком устройстве системы международных отношений, которое не основывалось бы ни на идеологических императивах, ни на примате силы.
Выступление на презентации книги «Отвечая на вызов времени» (2010 г.)
В моей жизни — человека, родившегося после Великой Отечественной войны, Перестройка — это самое важное со бытие, которое произошло в мире. И это, конечно, начало колоссальнейших изменений внутри нашей страны.
В первую очередь, это, действительно, революция в общественном сознании. Мы воспитывались в коммунистической догме. Весь мир делился на черных и белых, точнее говоря, на красных и белых. Идея общечеловеческих ценностей, отход от того, чтобы смотреть на мир по принципу «кто не с нами, тот против нас», — это исторический прорыв. Это начало перехода России к строительству демократии и современного рыночного рынка. Подчеркиваю слова «начало перехода», потому что Перестройка, к сожалению, была прервана в Беловежской пуще. И поэтому переход к демократии и современному рынку оказался зигзагообразным — шаг вперед, два шага назад.
М.С. Горбачев. Я, вообщето, думаю, что путч прервал Перестройку. Все позиции были подорваны, и открылась дорога для всех авантюристов — для кого угодно.
С.М. Рогов. Я с Вами почти согласен — но пока руководителем страны оставался Горбачев, у меня лично была надежда, что еще не все потеряно.
В этой связи я задумываюсь над тем, к чему привела идея общечеловеческих ценностей в нашей стране. Действительно, общечеловеческие ценности — очень важная вещь. Но ведь есть еще ценности групповые — классовые, национальные ценности, и прочие.
Михаил Сергеевич, в результате того процесса, который Вы начали — когда «крышка» была снята, возникла противоестественная коалиция людей, у которых были разные ценности. Но, несмотря на это, они в той или иной степени помогали друг другу остановить Горбачева — «твердолобого коммуниста», по выражению Рейгана.
Это были и наши ультрареформаторы, которым казалось: «ох, как медленно мы идем, Горбачев — за эволюцию, мешает». Им казалось, что надо сразу перейти к рынку, который очень некритично воспринимал тогдашний Запад, где господствовала рейганомика и идея полной либерализации рынка.
Другая группа — это люди, для которых главными были национальные или националистические ценности. Это было не только в Прибалтике, а, в первую очередь, у нас в стране, где вдруг укоренилась идея, что республики — это обуза, если избавимся от них — быстро побежим в демократию, рынок.
Наконец, еще один компонент этой коалиции — западные партнеры: у Горбачева не оказалось настоящих, достойных, до конца честных партнеров на Западе. Во многом они соглашались, и ктото довольно искренне. Но на Западе слишком сильна была инерция холодной войны. Была идея завершить холодную войну без победителей и побежденных. Если говорить спортивными терминами — вничью и начать играть вместо футбола в теннис или в какуюто другую красивую игру.
Эта инерция продолжалась и после падения Берлинской стены. И продолжалась она в Лондоне в 91-м году, когда, пре красно понимая ситуацию, в которой оказался Горбачев, западные партнеры не пошевелили пальцем, чтобы реально, а не на словах — поддержать.
Я считаю, что холодная война все-таки закончилась с распадом Советского Союза — начавшись в 1917 году, она закончилась именно с распадом Советского Союза, когда Ельцин на блюдечке с голубой каемочкой преподнес Западу свершение мечты, о которой, в общем-то, Запад серьезно и не мечтал: что Советский Союз исчезнет — все, нет больше противника. Вспомним речь Ельцина в американском Конгрессе 30 января 92-го года. Он говорил: я принес вам победу — давайте будем праздновать.
Думаю, что на Западе инерция холодной войны до сих пор не прекратилась. Она проявляется в таких вещах, как расширение НАТО, как попытка получить абсолютное военное превосходство. Я вовсе не хочу сказать, что во всем виноват Запад. Но давайте задумаемся: что было бы, если бы партнером Горбачева был бы Обама? И здесь я хочу пуститься в очень опасные параллели, хотя сразу скажу, что все параллели не точны. Но тем не менее, посмотрите: появляется американский лидер совершенно другого поколения — человек, который не связан с мышлением холодной войны. Кстати, что его родители познакомились в 60-м году, на первом курсе университета, в классе по изучению русского языка.
Сейчас Америка столкнулась с тяжелейшим системным кризисом. Обама пытается решать такие вопросы, как Перестройка американской экономики. Популярен лозунг «мы хотим изменений, мы хотим перемен» — избиратель Обамы «поет» почти как Виктор Цой.
Речь идет о создании социального государства, которого в Америке никогда, по существу, в зрелом виде не было, — это сейчас реформы здравоохранения, образования. Обама пытается найти способ, как выбраться из Афганистана — это напоминает коечто. Но Обаме еще надо из Ирака каким-то образом выбраться. Идет он зигзагообразно — мы тоже из Афганистана не сразу вышли.
Посмотрите на риторику Обамы на международной арене: фактически, отказ от идеи однополярного мира, признание, что мир многополярен и надо сотрудничать. Обама — первый лидер со времен Горбачева, который заговорил публично об идее ядерного разоружения.
Посмотрите, с каким колоссальным сопротивлением он столкнулся. Причем, с одной стороны, это твердолобые динозавры — республиканцы, с другой стороны — в его Демократической партии крайне левое крыло говорит, что Обама идет на компромиссы, отказывается от идеологической чистоты. А на внешнем поле — есть ли у него уж очень серьезные партнеры, которые, действительно, пытаются не только поддерживать, но дальше двигать идеи, которые предлагает Обама?
Несколько слов о Восточной Европе. Это, я думаю, было, наверное, самое тяжелое решение для Горбачева и всего периода Перестройки. Как я понимаю, после Великой Отечественной войны господствовала сталинская идея — прежде всего, создать зону безопасности подальше от границ и потом уже, чтобы закрепить эту зону безопасности, провести установление коммунистических режимов в Восточной Европе. До 47-го года Сталин не пытался посадить у власти коммунистическое правительство — была народная демократия, какаято рыхлая коалиция.
Горбачев отказался от «доктрины Брежнева», точнее говоря, «доктрины Сталина», потому что выяснилось, что без наших танков эти режимы держаться не могут. И они фактически ушли с политической арены в течение буквально нескольких месяцев. Потому что в отличие от нашей страны в большинстве восточноевропейских государств коммунистические режимы не имели внутренней опоры, внутренней предыстории и без внешней поддержки со стороны наших танков, конечно, им было очень тяжело удержаться у власти.
Обратите внимание: реформаторские процессы начинались, скажем, в 68-м году в Чехословакии, а Советский Союз не хотел реформироваться, поэтому он их подавил. При Перестройке в Советском Союзе начинается процесс эволюционных реформ — а Восточная Европа отстает. Но когда стало ясно, что наши танки не вмешаются, там вместо эволюции мгновенно произошел полный крах режима. Кто, как Чаушеску, этого не понял, того просто поставили к стенке.
Наверное, я думаю, это было самое сложное решение, потому что это означало фактический конец биполярного мира. Социалистический лагерь мгновенно исчез, в 90-м году прекратил существование Варшавский Договор. Это, конечно, вызвало мощнейшую оппозицию курсу Горбачева внутри партийной верхушки. Потому что, глядя на то, что происходит в Восточной Европе, они испугались, что то же самое может произойти и у нас.
Весь период Перестройки рисуют сегодня у нас черной краской: предательство, измена — всякая гнусность говорится. Это особенно тяжело понять молодым людям, потому что они тогда не жили, а то, что они видят по телевизору, вольно или невольно действует на их сознание.
М.С. Горбачев. Молодым людям надо сказать, что по телевидению показывают то, за что платят — и все. Чтобы им ясно было.
С.М. Рогов. Вопрос в том, что на Западе — когда окончание холодной войны было истолковано как победа Запада — с Россией начали обращаться как с побежденной страной, началось расширение НАТО и т.д. Мы видим, что пошла игра, по существу, в одни ворота, и после распада Советского Союза Запад перестал принимать во внимание наши интересы безопасности.
Сейчас объявлена перезагрузка российско-американских отношений. Давайте задумаемся: в чем же смысл перезагрузки? Просто в том, чтобы подписать новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений? — Это очень важно, но это не самоцель, хотя, конечно, необходимо осознать, что режим контроля над вооружениями находится на грани полного краха. Посмотрите: Договора по ПРО уже нет, Договора по обычным вооруженным силам фактически нет, Договор СНВ-1 перестал действовать…
Но возникает вопрос: где наши инициативы в этой сфере? Идея создания новой системы европейской безопасности — хорошая идея. Горбачев говорил о том, что Европа должна стать нашим Общим домом, Бейкер говорил, что надо создать систему безопасности от Ванкувера до Владивостока, сейчас президент Медведев повторяет эту формулировку.
Но мир за эти двадцать лет изменился. И хотелось бы, чтобы Россия в новых условиях занимала позицию, не просто реагирующую на то, что делают США, Европа, или Китай. Хотелось бы, чтобы на нас смотрели как на лидеров, которые — как тогда, в конце 80-ых годов — предлагают нечто новое и начинают это осуществлять. |
|
XXI век станет либо веком тотального обострения смертоносного кризиса, либо же веком морального очищения и духовного выздоровления человечества. Его всестороннего возрождения. Убежден, все мы – все разумные политические силы, все духовные и идейные течения, все конфессии – призваны содействовать этому переходу, победе человечности и справедливости. Тому, чтобы XXI век стал веком возрождения, веком Человека.
|
|
English |