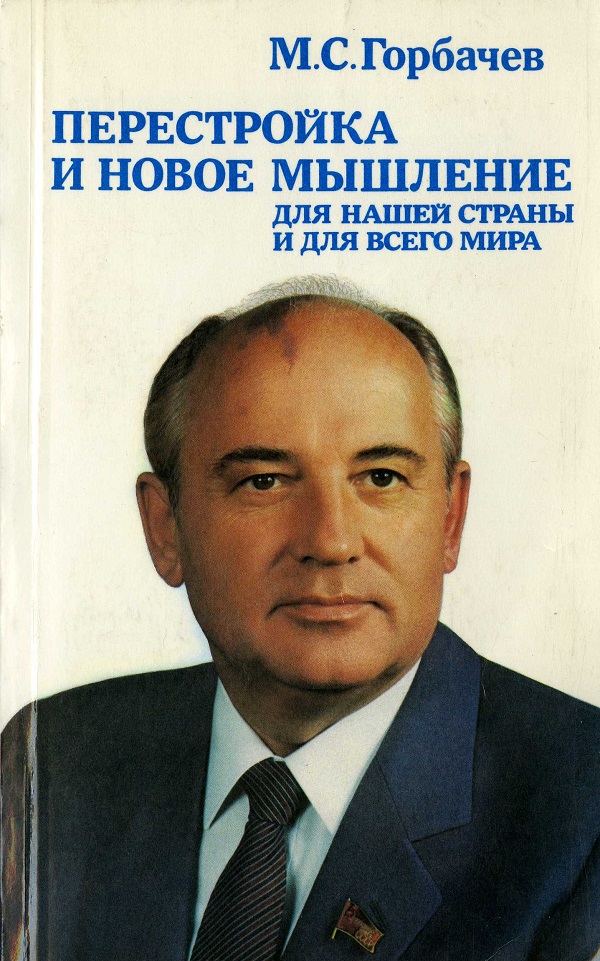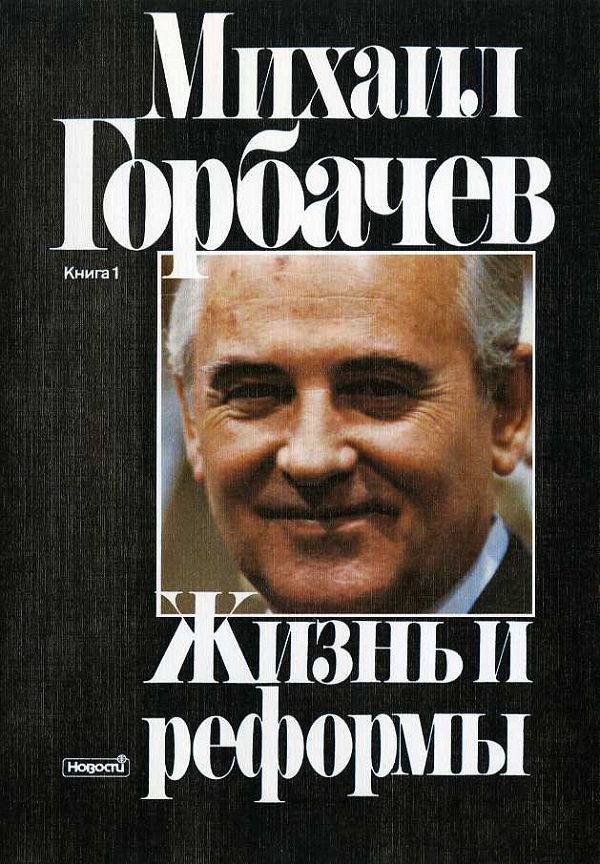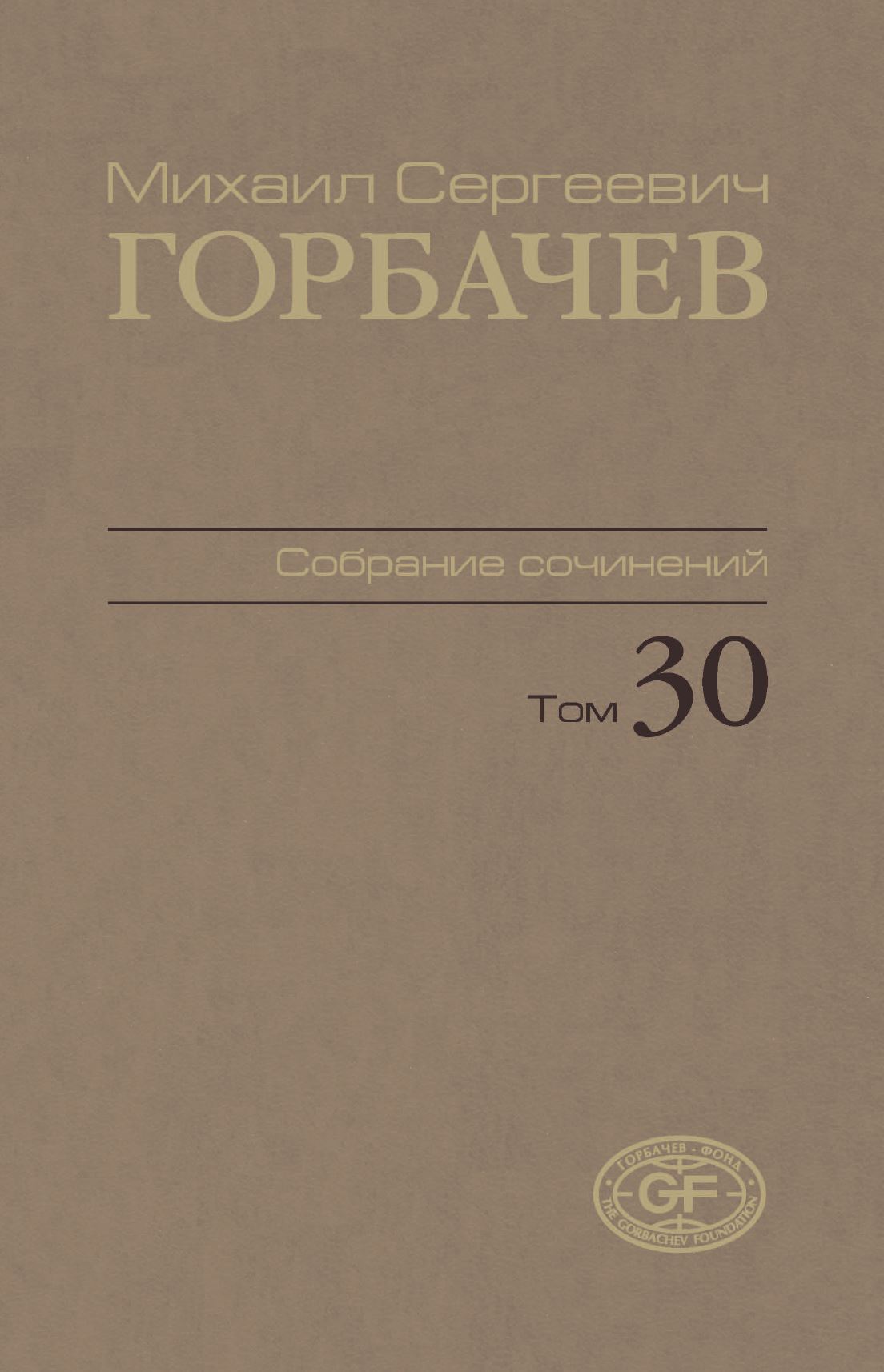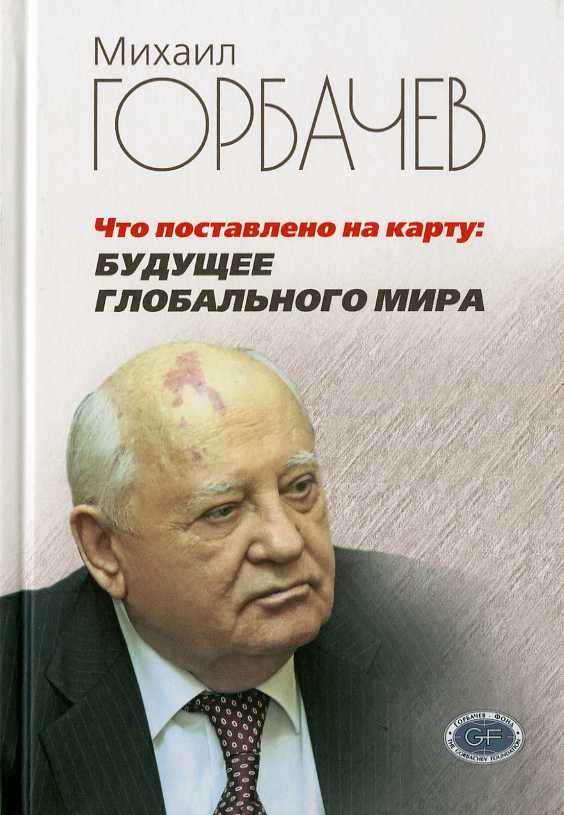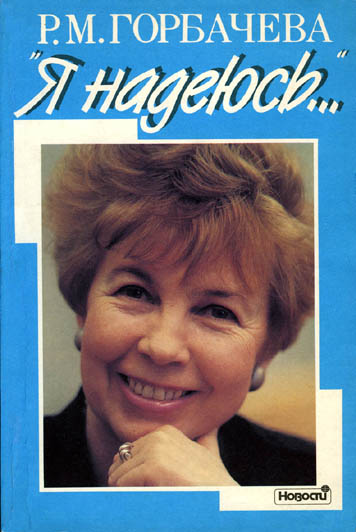В.А.Медведев "Перестройка в контексте общецивилизационных перемен"
Коренные перемены конца ХХ столетия на огромном советском (а затем и постсоветском) пространстве, безусловно, продиктованы собственной логикой развития нашей страны. Но их невозможно объяснить и вне общецивилизационного контекста, реальных процессов и тенденций мирового развития.
Советская система, какую бы идеологическую интерпретацию ей ни давали, на деле вылилась в попытку (не первую в истории России) вывести ее из исторического тупика и развала, совершить скачок в социально-экономическом развитии, преодолеть отставание, выдвинуться в авангард общественного прогресса. При этом был взят на вооружение крайне радикальный вариант социалистических учений, обосновывающий неизбежную победу тотального и энергичного социалистического общества над дряхлеющим капитализмом.
Вряд ли можно утверждать, что эта попытка была полностью безуспешной и не дала никаких положительных результатов.
- Под флагом «пролетарского интернационализма» было восстановлено развалившееся в 1917 году единое государство в рамках бывшей Российской империи (за исключением Польши и Финляндии).
- В сжатые исторические сроки проведена индустриализация экономики с полным набором современных отраслей.
- Осуществлена культурная революция, создана современная система образования и мощная наука, скромная, но надежная система социального обеспечения населения.
Победа в Великой Отечественной войне, внесшая решающий вклад в избавление человечества от фашистского порабощения, овладение ядерным оружием и выход в космос позволили СССР достичь военно-стратегического паритета с США и занять место одной из двух сверхдержав в современном мире.
Конечно, нельзя забывать о цене, которую пришлось заплатить за все это советскому народу. Это и огромные потери людей на полях сражений, лишения и жертвы в мирное время, безжалостные социальные эксперименты с целыми социальными слоями и национальными группами, массовые политические репрессии. Они не могут быть оправданы и представлены как цена за достижения и величие страны.
Но вот парадокс. Прошло не так уж много времени после того, как массовые репрессии ушли в прошлое, а социально-экономическое развитие страны стало давать сбои, замедляться, приближаться к нулевой отметке. Это стало особенно заметно в конце 70-х-начале 80-х годов.
Здесь мы подходим к трактовке основных причин и сути советской перестройки и ее связи с общецивилизационными переменами в мировом развитии. Я имею в виду постиндустриальную трансформацию общества, которая развернулась в развитых странах мира в последней трети истекшего столетия. Она затронула, прежде всего, экономику – ее научно-техническую основу, отраслевую структуру, систему экономических отношений, институтов и механизмов.
Резко возросла роль науки, знаний, информации – всего того, что составляет содержание человеческого капитала, соответственно увеличилась доля нематериальных благ в общественном продукте. Глубокие перемены развернулись в социальной сфере, призванной обеспечивать воспроизводство человеческого капитала, в том числе через систему социальных трансфертов и публичных благ. Перед лицом новых требований оказались и политические структуры, институты гражданского общества.
Под мощным влиянием постиндустриальных тенденций оказалась и сфера международных отношений, о чем свидетельствует усиливающаяся глобализация процессов мирового экономического и политического развития.
Постепенно начинают вырисовываться контуры постиндустриального общества, хотя пока еще не предложено даже подходящего термина для его обозначения. Такие определения, как технотронное, компьютерное, информационное, сервисное и т.д. общество, отражают, скорее, его технологические, но не социальные особенности.
Что касается социальных характеристик, то, как мне кажется, их надо черпать не из традиционного сопоставления «капитализм-социализм», а из арсенала общечеловеческих ценностей. Часто можно слышать, что будущее общество возьмет от капитализма рынок и демократию, а от социализма – коллективизм и социальную справедливость.
Но капитализм не имеет монополии на рынок и демократию, так же как социализм – на коллективизм и справедливость. Это, скорее, общечеловеческие ценности, выработанные и выстраданные многовековой историей общества. Именно на общечеловеческих ценностях, по-видимому, и будет покоиться постиндустриальное общество. Теория конвергенции с этой точки зрения сильно уязвима.
Нельзя не признать, что традиционная для Запада капиталистическая система, казавшаяся одно время безнадежно одряхлевшей, на деле обнаружила способность к обновлению и трансформации в нечто иное, к адаптации к новым реалиям. Этот процесс протекает непросто, сопряжен с острыми противоречиями и трудностями, он не может считаться законченным, и, по-видимому, находится еще в самом начале.
Парадоксально успешным оказался опыт позднеиндустриального и постиндустриального развития в рамках модернизированных восточных моделей общества – прежде всего в Японии, а также в Южной Корее, на Тайване, в Сингапуре, Гонконге, Малайзии.
А вот в странах, считавших себя передовыми в общественном развитии, - Советском Союзе и его социалистических союзниках, все сложилось иначе. Система «полного», «тотального» социализма оказалась не совместимой с постиндустриальными процессами и не способной к самонастройке. В этом – причина общего кризиса тотального социализма и главное, что обусловило необходимость перестройки.
О периоде застоя, предшествовавшем перестройке, о неспособности и старческом маразме брежневского руководства сказано много и правильно. Справедливости ради заметим, что его нельзя упрекнуть в неведении или игнорировании начавшихся в мире перемен. В руководящих выступлениях и документах тех лет не раз говорилось о необходимости «соединения достижений научно-технической революции с преимуществами социализма», но дальше заклинаний дело не шло. Даже подготовленный учеными и не раз объявленный Пленум по научно-техническому прогрессу так и не состоялся.
Причина – в инерции складывавшейся десятилетиями социально-экономической и политической системы и сопротивлении связанной с ней элиты советского общества. Даже довольно скромная по своим целям и методам «косыгинская» реформа была постепенно размыта и, в конечном счете, завалена.
Плохую услугу в этом смысле оказал поток нефтедолларов, хлынувший в страну после освоения источников черного золота в Западной Сибири и почти десятикратного повышения мировых цен на нефть. Он создал видимость экономического благополучия в стране и отвлек внимание от назревших проблем структурной и институциональной перестройки экономики, а выручка от вывоза нефти и нефтепродуктов была потрачена на оплату импорта зерна и на нужды ВПК.
Возвращаясь к тем временам, можно сказать, что для кардинальных преобразований в направлении общемировых тенденций мы потеряли, по меньшей мере, 15-20 лет. А они и без того с учетом стартовых социально-экономических и политических предпосылок были для нас значительно более сложными, чем для других стран.
С начала перестройки минуло еще 20 лет, наполненных до краев бурными событиями внутри страны и на международной арене. Удалось ли за это время наверстать упущенное в советское время и приблизиться к траектории современного общественного развития?
Конечно, Россия стала другой страной, разительно отличающейся от Советского Союза не только своими размерами и географическими очертаниями, численностью и составом населения, но и всем социально-политическим обликом. Покончено, как мы надеемся навсегда, с тоталитарным прошлым, попранием демократических норм, прав и свобод человека. Россия перестала быть фактором напряженности, источником военной опасности и силового давления в международных отношениях.
Но в социально-экономическом отношении нам похвастаться, к сожалению, нечем. За два десятилетия по уровню экономического развития мы не приблизились к передовым странам, а еще более отстали от них. Особенно это относится к высокотехнологичным отраслям и секторам экономики. В тяжелом состоянии находится сельское хозяйство, большинство отраслей машиностроения. Несмотря на оживление производства в течение последних пяти лет его объем не достиг соответствующих показателей Российской Федерации в 1990 году. Еще большим стало технологическое отставание от развитых стран. Уровень жизни основных слоев населения остается значительно более низким в сравнении с советским временем, не говорю уж о западных стандартах.
В чем тут причина?
Конечно, сказались ошибки и просчеты перестроечного периода. Но главный удар по экономике страны нанесен шоковой терапией в 90-е годы. Беспорядочная либерализация экономики, внезапное открытие ее мировому рынку, приватизационная вакханалия, бессовестное ограбление населения ввергли страну в настоящий хаос – рай для коррупционеров, спекулянтов и ловкачей и настоящее бедствие для народа.
Оставшись «без руля и без ветрил» под влиянием стихийных сил, российская экономика получила еще более резко выраженную топливно-сырьевую однобокость, а технологическое отставание позднесоветского периода еще более возросло и стало приобретать необратимый характер.
Ошибочной оказалась и макроэкономическая политика государства, приведшая к дефолту 1998 года и в конечном счете – к смене администрации.
Последствия самого глубокого и продолжительного в истории страны экономического кризиса 90-х годов прошлого века сказываются и сегодня. Нынешнее оживление экономики вызвано внешними факторами – резко понизившимся валютным курсом рубля в результате дефолта 1998 года и невиданных доселе ростом мировых цен на нефть. Внутренние источники роста в полную силу так и не заработали. Это относится в первую очередь к инвестиционному процессу, который в современных условиях может получить мощный стимул только на основе развертывания коренного технологического обновления производства, и если говорить более широко, - постиндустриальной трансформации общества.
К сожалению, эта историческая проблема, вызвавшая в свое время саму необходимость перестройки, не нашла своего места в политике нынешней администрации России. Основной лозунг ее – «удвоение ВВП» фактически дезорганизует экономическую политику, толкает страну на самый легкий путь – сохранение и углубление топливно-сырьевой ориентации, хотя на словах провозглашается отход от нее.
Нынешняя ситуация в этом смысле начинает напоминать советские предперестроечные времена, когда сверхвысокие доходы от нефти создавали видимость экономического благополучия. Сегодня, как и тогда, сверхдоходы от вывоза природных ресурсов и продуктов их первичной переработки не направляются на самое важное – на структурное и технологическое обновление производства. Они, правда, не проедаются, но либо омертвляются в золотовалютном резерве и стабфонде, либо идут на досрочное погашение долга, о котором нас никто не просит.
С определенными оговорками в актив нынешней российской администрации можно отнести положительные перемены в социальной политике – ликвидацию задолженности по зарплате и пенсиям в бюджетной сфере, введение их индексации, некоторое увеличение социальных трансфертов – расходов на образование и здравоохранение, фундаментальную науку и культуру, провозглашение принципа равноудаленности олигархов от государственной власти, повышение их ответственности за соблюдение законов и т.д.
Однако социальной политике недостает системности и последовательности, в ее проведении наблюдаются необоснованные экспромты и непродуманные действия в реформировании образования и науки, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства, пресловутой монетизации льгот. Одних олигархов за неуплату налогов сажают в тюрьму, а другим позволяют вывозить сомнительные капиталы за рубеж и покупать там футбольные клубы и шикарные поместья.
Нет внятной политики, направленной
- на повышение уровня доходов основной массы населения, остающегося крайне низким,
- на снижение непомерного разрыва в доходах,
- на преодоление бедности в стране.
Нынешнюю российскую администрацию нередко критикуют в стране и чаще – за рубежом за ее отход от демократических принципов в государственном строительстве, в отношениях со СМИ, а также с крупным капиталом.
Нельзя не признать, что основания для критики действительно есть. Но необходимо иметь в виду, что откат от демократических принципов, заложенных в годы перестройки, начался еще в 90-е годы. Он был заложен в Конституцию РФ 1993 года, наделившую Президента чуть ли не диктаторскими полномочиями. А этому предшествовал конфликт Президента с парламентом, кончившимся кровавым его подавлением. Тогда это за рубежом мало кто критиковал.
Та же Конституция наделила неограниченными правами на своей территории губернаторов областей (президентов республик), избираемых их населением. В результате при непомерной концентрации власти в их руках на соответствующей территории вертикаль управления и ответственности была утрачена, что для России с огромной территорией и разнообразием условий порождает немало трудностей и даже опасностей.
Отказ от выборов глав регионов населением в пользу выборов их представительными органами по представлению Президента – шаг назад в смысле демократизации, но его можно понять в контексте восстановления вертикали власти, столь необходимой для модернизации страны и выхода ее на траекторию современного развития. Вместе с тем было бы логично и важно в этом контексте усилить демократические основы центрального звена исполнительной власти. Речь могла бы идти о формировании правительства парламентским большинством и его ответственности перед парламентом.
Что касается СМИ, то откат от свободы слова – как одного из важнейших достижений перестройки – также начался не сегодня, а произошел в начале 90-х годов, когда основные газеты, каналы телевидения, оказались в руках олигархов и вновь были превращены в орудие манипулирования общественным мнением. Именно это позволило Ельцину, популярность которого упала уже тогда до нескольких процентов, одержать победу на президентских выборах.
Подводя итог сказанному, можно с полным основанием считать, что идеи перестройки, как процесса приобщения страны к общемировым тенденциям и процессам – те, которые были осуществлены и те, которые не удалось реализовать – и сегодня не утратили своей актуальности, они продолжают стоять в повестке дня.
|
|
|
|
23 апреля 1985 года состоялся Пленум ЦК КПСС, который ознаменовал начало Перестройки – эпохи радикальных преобразований в СССР
23 апреля 2025
|
|
С 2006 г. снижается доля тех, кто считает, что перестройка принесла России больше вреда.
Равные доли опрошенных согласны и не согласны с тем, что было бы лучше, если бы всё оставалось так, как было до перестройки.
15 апреля 2025
|
|
|
Письмо Мицуёси Уэмацу в Горбачев-Фонд
14 апреля 2025
|
|
В Горбачев-Фонде состоялся «круглый стол» посвященный 40-летию начала Перестройки
4 апреля 2025
|
|
В данной статье автор намерен поделиться своими воспоминаниями о М.С. Горбачеве, которые так или иначе связаны с Свердловском (Екатерин-бургом)
|
|
В издательстве «Весь Мир» готовится к выходу книга «Горбачев. Урок Свободы». Публикуем предисловие составителя и редактора этого юбилейного сборника члена-корреспондента РАН Руслана Гринберга
|
|